
В фильме «Русский бунт» Александра Прошкина самозванец Пугачев, чтобы доказать свои слова, режет себе руку и поднимает на дыбы всю Россию. Первый раз. Второй. Третий раз его кровь уже никого не трогает, а лишь толкает казачьих старшин связать Пугачева и отдать царским войскам в обмен на свои жизни.
В Германии 1970х Вима Вендерса ничья кровь никого не может стронуть с места — ни своя, ни чужая. Столетия немецких проповедей на крови — на своей и чужой — выжгли всякую правоту и силу подобных жестов…
Выжгли то, имеющееся у человека, чувствилище, которым мы вос-принимаем чужую боль как именно боль, как то, что мы знаем как наиболее врывающееся в наше существование, проникающее в нас, захватывающее нас и перерождающее нас и потому самое страшащее нас.
Боль, про которую лишь много после рождаются разные теории-объяснения, из которых бесчувственная машина интеллекта уже так элементарно «выводит» оправдания, почему можно было ничего не делать в ответ на страдания другого. Ведь непосредственно сразу, если мы не двигаемся с места в ответ на чужую боль, то лишь из-за захваченности не менее сильными переживаниями — страхом или ненавистью; хладность в ответ на боль — вещь противоестественная.
И вот целая цивилизация «научилась» быть хладной к самопричинению себе боли. Факт очевидного причинения себе страдания перестал быть безусловным актом коммуникации. От него «научились» легко отмахиваться презумпцией манипуляции.
Человек бросает себя в жгущую боль, сжигая мосты обыденного течения жизни; человек беззвучно кричит, разрывая наружу пределы своего внутреннего… — но так удобно думать, что ему нужна некая выгода, а потому нужно «очень осторожно» на это реагировать…
И, одновременно, для целых поколений не осталось ничего, что могло бы стать «доказательствами» для всегда банальных слов о помощи, чтобы они перестали быть «просто словами», а позвали на помощь.
«На помощь», «помоги» — слова, которые люди сами и для себя обесценили. Выставили в число первых подозреваемых в спекуляциях и подделках. Стало невозможно в открытую просить. Просить прямо стало труднее, чем разрезать себя на части…
Ну а еще, чтобы просить — надо хотя бы надеется, что то что просишь есть у другого. Чтобы просить — надо знать, что хочешь получить. Просить о спасении у таких же как ты утопленников — что может быть нелепее.
Так было в, убивавшей почти полвека себя и мир вокруг, Германии… затем так стало почти везде.
. . .
Он смотрел в окно и не мог вырваться из себя. Его попытки написать что-то стоящее оборачивались лишь попытками. А написать было мучительно нужно; желание производить слова, желание прокричать на весь мир — вот он я есть — вот мои такие удивительные чувства к миру — я хочу, чтобы меня как тех, которых все читают, — прочли — т.е. услышали — что я есть, что я вот он — чтобы пришли и восхитились, потому что только поклонение может, наверное, примирить с болезнью существования — ведь все мы боги, которые чахнут, если им не поклоняются…
Он смотрел в окно и банальность всех чувств и слов ненавистью заставила разрушать. И лишь весь, впитанный каждодневным сосуществованием с другими, громадный социальный тормоз не дал ему сделать что-то безвозвратно худшее — он лишь разбил окно. И порезал руку — и кровь должна была подкрепить слова его внутреннего монолога, но ничего не последовало.
Вошла мать и поняла, что надо спасать — выгнать на прогулку — прогулку длинною в жизнь — и если она не поможет, то больше ничего…
А потом он встретил их. И пошли разговоры, которых не бывает, которые в своем публичном обнажении должны были бы открыть им друг друга и пробиться через непонимание и холод, через «все равно» — дать прикоснуться к душам друг друга…
Но ничего не вышло.
. . .
Вот другой в разрушенном его мире. Разрушенном смертью жены — той, кто единственная давала ему минимальное тепло, позволяющее жить в таком большом и очень холодном доме и мире… Вот этот другой сидел и ждал пулю как финал, и молился, чтобы спасли, чтобы шум машины был к нему, чтобы тепло другого человека вдруг позволило жить ему дальше.
Он, спеленатый саваном социума, очень аккуратными словами смог сказать, что больше жить не может, что ему нужна помощь. Он не мог сказать ярче. В его безжизненном монологе жизнь была внутри, наружу же её показать было невозможно. Ведь слова ничто. А всякий кто мог бы его спасти должен бы и так все понять. А если не поймет, то и не спасет.
Лишь кровь, лишь увечье себе, лишь приоткрытие боли наружу — вот тот короткий безмолвный крик, который мог позволить себе умирающий. Чтобы спасли, чтобы поняли насколько всё всерьез.
Но слова на крови были теперь первые подозреваемые. Случайные гости не могли победить историю и собственную немощь — вырваться из смирительный рубашки — протянуть руку и спасти… Каждый был озабочен своим — себе бы помочь — на других сил они не имели.
Неоткуда им было узнать, что в помощи другим, единственно имеем мы источник прибавления сил для спасения самих себя — своих душ…
Немощный писатель вытер чужую кровь и стал писать никому не нужные немощные свои слова.
. . .
А еще был старый убийца. То есть как убийца — так, обычный винтик в войне. Который прятался от смерти в историях о своих убийствах. Умирать сам не хотел, но и жить открыто не мог. В своем самоуничижении лишь мог он оправдывать то, что когда-то делал «как все».
А еще он питался молодой кровью девчонки. Которую таскал за собой.
Но та это не знала. Потому что она была молода, сильна и шла вперед, разрывая реальность своей жаждой жизни. Своей жаждой молодой женщины, которая должна взять всё, что ей полагается, и которая хочет это всё, одновременно отдавая себя всю. Она целиком и в том, что отдает, и в том, что берет. И мир вокруг, глядя на её рассвет, отходит в стороны, чтобы восхититься и подождать — ведь рассвет всегда завораживает…
А еще она молчит. Потому что, когда ты светишь всем своим существом и ищешь жизнь для себя целиком и твой порыв — продолжить жизнь — то что те слова.
. . .
Слова мертвы, если они обращены к тем, кто их не слышит. Слова не могут дать слух. Не могут заставить сдвинуться с места. Это делают не слова. Движение не рождается из слов.
Движение даже не рождается из боли и крови. Чтобы слова, боль, кровь имели силу, она должна быть у тех кто их слышит, видит, со-чувствует.
Лишь сила в воспринимающих нас дает нам шанс, что наши порывы во вне (наш талант, наше мастерство, наш многодневный-многолетний труд, наши кровь, пот и слезы) породят хоть какое-то неложное движение… движение навстречу нам… движение с нами — туда, куда мы стремимся, даже если это всего лишь смутное — вперед.
■ Кое-что из головы 25-летнего режиссера…
//«Почему рехнулся господин Р?» (Фассбиндер,1970)
■ (не)Жить чужой жизнью…
//«Пять легких пьес» (Боб Рейфелсон, 1970)
■ Сгинуть в чужой жизни. Спастись в красоте мира…
//«Профессия: Репортер» (Микеланджело Антониони, 1975)
■ Ноша зла для доброго сердца…
//«Таксист» (Мартин Скорсезе, 1976)
■ Лицо – угрюмая маска, жизнь как у скота… – это реальный человек, а всё остальное лишь (само)обман и мечты?
//«Дорога» (Федерико Феллини,1954)
■ "Сама себя не похвалишь, никто тебя не похвалит": о некоммуникабельности чувств и слов… // «Смятение чувств» (Павел Арсенов, 1977)
■ Она ушла в него как в монастырь…
//«Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1977)























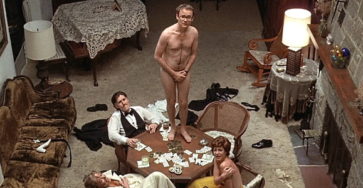







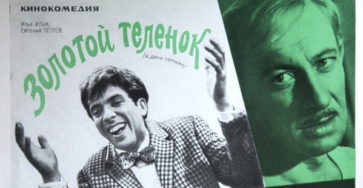
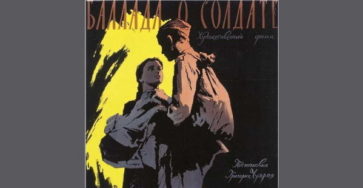

[комментарий 1]
Следует наверное добавить, что
Вим Вендерс предполагал, что снимет фильм по роману их немецкого всё — Иоганна Вольфганга Гёте. Длиннющий роман называется «Годы учения Вильгельма Мейстера» и был опубликован в 1795 году.
Соответственно Настасья Кински играет роль знаменитой Миньон, которой в книге как раз 12-13-14 лет.
Но в итоге у Вендерса получилось, конечно, совершенно самостоятельное произведение.
`
[комментарий 2]
Премьера фильма «Ложное движение»: 14 марта 1975 года.
Настасья Кински родилась 24 января 1961.
На момент завершения фильма – ей 14 лет. И это её дебют.