
Несомненность реальности спасения жизни. Несомненность реальности смерти. Они равны между собой.
Человеку, погруженному в копание в себе, в болтовню о других, в мечтании о «высоком», в потакание своим похотям… во всём можно усомниться, всё можно обсмеять, про всё простебаться или сказать что-то «цинично-умное»…
Но когда прямо перед тобой происходит смерть, во всей её вышибающей землю из-под ног реальности, или когда переживаешь, несоизмеряемое ни с чем, событие спасения от смерти — все эти плетения собственных мыслишек выдувает словно пыль ударной волной ледяного воздуха.
Да, потом наступает откат. Потом ломка схлынувшего напряжения требует что-то сделать — и самым легким выходом кажется кинуть в потерявшую равновесия душу отраву химического «успокоителя» (и хорошо, если алкоголя) — но даже этот откат не заглушит память о переживании подлинности, которая открылась в самоотречении подвига спасения жизни.
Врач скорой помощи — день за днем перед реальностью жизни на её пределе. Есть враг — болезнь и смерть. Есть страдающий-беспомощный человек и, потерянные от страха за него, его близкие. И есть ты — у которого есть шанс помочь.
И это и есть Жизнь — Жизнь с большой несуразной буквы Ж. И сильнее, и важнее ничего нет.
И чтобы не разорвало от того, что ты вместил в себя всё это (а вокруг слоняются люди-дурачки — и милые, и злобные, и никакие — как будто ничего этого нет — боли нет, смерти нет)… чтобы не разорвало — надо дотерпеть до конца смены и залить душу пойлом — другого способа обычай русского излома веков не оставил.
Всё другое уже не важно. Подлинность существования всё больше и больше стирает все «условности». Подлинность уже для тебя обыденной, уже рутинной войны жизни и смерти, в которой ты реально можешь что-то изменить, — смывает всю мелочь. Мелочь, которую другие почему-то зовут «обычной жизнью».
И еще есть Она. Она уже давно стала частью тебя. В общем, это уже ты и есть. Ты не делаешь различия. И это для тебя естественно как дышать. Ты с ней — как наедине сам с собой. И это дает опору. Иначе бы ты столько не продержался в этом исковерканном мире, где то, что ты делаешь самую важную работу для этого мира знаешь только ты, такие же сумасшедшие как ты и те, кого ты только что спас, да и те удерживают это в своем сознании очень недолго.
А что она? А она — устала. Она ведь это на самом деле не ты. Она уже не может гореть. Иначе от неё останется только пепел. Так она для себя решила. Потому что иначе надо сделать еще один шаг в отречении от себя. А это страшно. И она отступила.
— Но отступив, вдруг оказывается, что ты предала. И его, и себя. Ведь ты тоже жила… ведь ты тоже живешь в подлинном мире. А вернуться в фальшь означает предать самое-самое, что есть в тебе, которое — и это больно — и это чудо — остается живым, только когда кидаешь все силы и всю себя ради этих никчемных других.
. . .
Фильм вроде бы не ровня тем фильмам, которые с полки «вечное». Здесь кино не заставляет трепетать твою душу именно как кино-искусство – гениальной соразмерностью формы-содержания, замысла-исполнения, никогда до того не сказанного и всем до боли знакомого… — каждый раз открывающейся первозданной новизной эстетически-безупречного взгляда творца…
Но это то «сермяжное» кино, которое достаточно прозрачно, чтобы без помех передать посыл в нем содержащийся. Чтобы исполнение не сломало магию погружения в «по ту сторону экрана»; и в этом погружении увидеть-осознать-вспомнить-понять важное про себя и мир, «не замеченное» в другом кино.
Гениальные фильмы Микеланджело Антониони загоняют в тупик «отчуждения» / в непреложность «некоммуникабельности чувств». А фильм Бориса Хлебникова взял и показал, как бывает по-другому. Что «отчуждение» и «некоммуникабельность» — это казнь лишь для «Я», которое до обморока боится себя потерять, которое так дрожит над собой-теперешним, над собой-уникальным-неповторимым-особенным, что любой контакт, который может покушаться на это забаррикадировавшееся «Я» отвергается мгновенно — «Я» еще глубже забивается в свою раковинку…
Герой «Аритмии» не знает, что такое «отчуждение» и «некоммуникабельность» — он на другом этаже жизни. Его самоотречение — взламывает клетку «Я» и погружает в полноту контакта с Другим. И он сам становится прозрачным для другого. Ему тяжело и больно, но это не тяжесть и боль заточения в затхлом подвале самокопания, это тяжесть и боль открытого боя…
Герой открыт для мира, но это не значит, что для него открыты другие, которые спрятались в своих «Я». Он, доверившийся своей любимой, не разглядел, что она, даже «прочитывая» его самоотречение, так и не смогла пройти свою половину пути. Истории из фильмов Антониони — это история и про неё тоже…
Гениальные фильмы Ингмара Бергмана громадному числу зрителей поворачиваются лишь стороной одиночества и страха перед смертью и, в лучшем случае, смирения перед этим страхом. И можно запросто не заметить, что рыцарь из «Седьмой печати» таки победил Смерть актом самоотречения, а профессор из «Земляничной поляны» вспоминает как наполненную счастьем не только свою утраченную юность, но и свою жизнь, когда он «тратил» её на помощь другим, и лишь заключение себя в «покой заслуженного отдыха» самоизоляции сделало его настоящее столь никчемным…
Да, «простой врач скорой помощи» ведет свою борьбу со смертью не в живописных ужасах Средних веков или шведской пасторальной жизни — а в наших банальных спальных районах — но самоотречение его, искренность его, не всемогущая сила его, что так просто явлены нам в фильме — очищают его… и нашу душу.
И спасибо фильму за это. Спасибо за поддерживающее нашу жизнь напоминание о простоте подвига, что противостоит страданиям и смерти.
Самоотречение — простое слово, в котором отблеск и Крестной жертвы Христа, и «естественного хода вещей» материнства, и шага в атаку «за други своя», и, да, просто работы — той, что делает человека Человеком…
P.S.
Весь пафос текста, конечно же, сугубо и трегубо направлен должен быть реальным врачам нашим… низкий им поклон и дай Бог им сил…
■ О тех, для кого чужая боль больнее…
// «Чучело» (Ролан Быков, 1983)
■ Души прекрасные порывы…
//«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (Александр Хант, 2017)
■ Пандемия. Европа. Чума. XIV век… Игра со смертью.
// «Седьмая печать» (Ингмар Бергман, 1957)
■ Человек никогда не может выстоять один против мира…
// «Трамвай Желание» (Элиа Казан, 1951)
■ Цель достигнута. И ?…
// «Стыд» (Стив МакКуин, 2011)
■ Про семью как панцирь, что нас (не)сберегает…
// «Алиса здесь больше не живет» (Мартин Скорсезе, 1974)
■ Лицо – маска, жизнь как у скота… – это реальный человек, а всё остальное лишь (само)обман и мечты?
// «Дорога» (Федерико Феллини,1954)
■ Бессилие слов и боли…
// «Ложное движение» (Вим Вендерс, 1975)
■ Она ушла в него как в монастырь…
// «Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1977)
■ Три дороги для одинокого человека: путь служение другим, путь свободы, путь надежды… // «Короткие встречи» (Кира Муратова, 1967)
■ Человеческое сердце — всегда больное сердце…
// «Нежность» (Эльёр Ишмухамедов, 1966)

























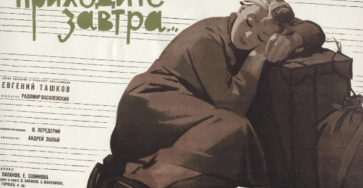




[избр.комментарии с zen.yandex.ru/kinokakpovod,4elovek-zritel.livejournal.com , mykp.ru/kkp ]:
[RastaMach]
Прекрасная рецензия, спасибо! Правда невольно задаешься вопросом, почему к ней столько минусов на КиноПоиске?
re: [RastaMach]
Спасибо.
Да, у этой рецензии на КиноПоиске много «минусов». Много «минусов» и у других «положительных рецензий» на фильм, а в тройке по числу оценок две ярые «отрицательные рецензии». При этом фильм хорошо оценен на множестве кинофестивалей. Т.е. его «качество исполнения» как минимум адекватно времени. Почему же «минусы»?
Не буду рефлексировать здесь про «вообще», про свою же рецензию есть сказать вот что:
Этот фильм (к счастью) стал вполне массовым. Он бередит душу. А когда человек переживает бурю в душе, то он, в массе своей, ищет опоры в успокаивающих и клишированных определениях того, «что на самом деле происходит на экране». Герой — «алкоголик», «инфантил» и т. д., и т. п., если же ты кому-то уже дал «определение», то это снимает с тебя необходимость погружаться в чужую жизнь и чужую боль… А рецензия пытается заставить это делать.
С другой стороны, сильное чувство от фильма у многих породило сильное и выстраданное собственное суждение. И любое чужое суждение, которое уводит далеко за рамки того, что «Я Понял», отвергается как разрушающее интимность понятого и/или мнение о себе как лучшем эксперте по фильму.
Плюс рецензия написана не самым легким языком и отсылает к совсем уже не легким авторам (Антониони, Бергман) из класса тех, чьи фильмы массовый зритель определяет как «устаревшее»/«заумное»/«скучное» и пр.
Ну и самое простое объяснение: фильм “просто»/»активно» не понравился значительной массе (он отказался вмещаться в голову и душу данного конкретного зрителя/ он прямо противоречит его «убеждениям»), а рецензия фильм хвалит, да еще, опять же, непонятно — что и порождает острое желание “отомстить” — поставить минус…
… это если про форму…
Самое же печальное из возможных объяснений неприятия и фильма, и рецензии: фильм/текст пытаются говорить про жизнь для других, про самоотречение — и для многих это очень неприятно — мешает приятно жить для себя…
[Русся]
Очень глубоко, очень прочувствовано и понято. Замечательная рецензия. Автор так умело выразила мои чувства и ощущения от фильма, не до конца осознанные, ведь пока не проговорена мысль, ее как-бы и не существует. Спасибо Вам!
re: [Русся]
спасибо, но «выразил_»
)
[1]
Фильм – хороший, герой — неоднозначный (многие возмущены, что слишком много алкоголя), но основной посыл — да, правильный…
И, да, теперь все мы особенно будем держаться за наших врачей. Без эпидемии – очень много кто забывал, кем держится наш мир.
re: [1]
Герой фильма соразмерен и истории на экране, и истории нашего жития-бытия.
Он ведь не Герой по жизни. Он слаб, его сила — она человеческая. Алкоголь же — та ловушка в нашей жизни, в которую очень и очень многие попадают. Хорошие попадают. Пытаясь «облегчить» свою жизнь, не получая поддержки от других… И многие долго балансируют на грани саморазрушения, делая своё благое дело. Другой вопрос, что со временем их саморазрушение перевешивает их самоотречение. И тогда им и всем вокруг — беда.
Как им помочь? Если бы знать.
. . .
Да, Ковид-19, будь он неладен, очень и очень многое расставил по своим местам.
Не хочет человек без смерти перед его лицом вспоминать о главном… а многие и даже так не хотят (или уже не могут)…